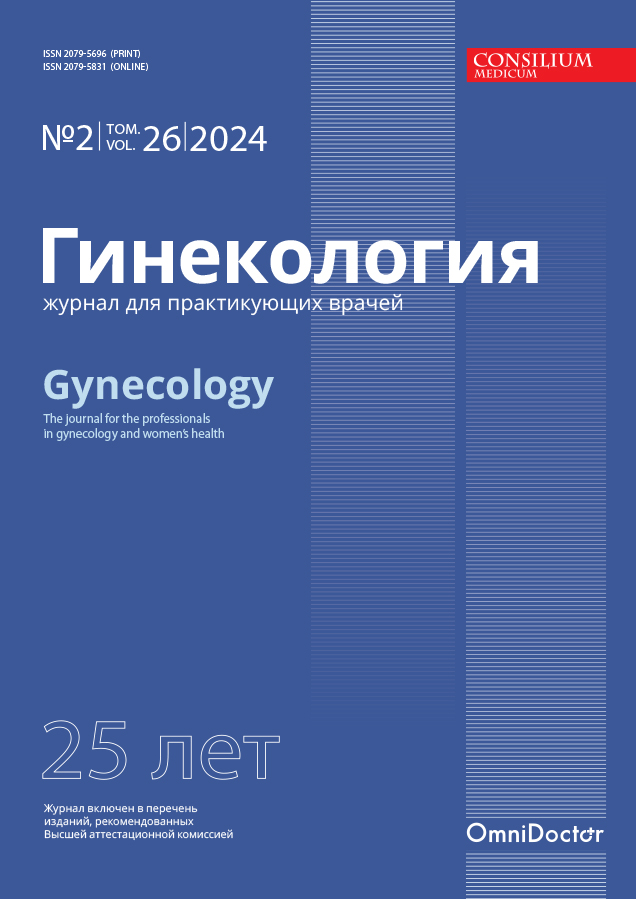Outpatient diagnosis and drug therapy of endometriosis: A review
- Authors: Solopova A.E.1, Alieva P.M.1, Dumanovskaya M.R.1, Tabeeva G.I.1, Ivannikova I.A.2, Smetnik A.A.1, Pavlovich S.V.1,2
-
Affiliations:
- Kulakov National Medical Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology
- Sechenov First Moscow State Medical University (Sechenov University)
- Issue: Vol 26, No 2 (2024)
- Pages: 135-140
- Section: REVIEW
- Published: 10.06.2024
- URL: https://gynecology.orscience.ru/2079-5831/article/view/569183
- DOI: https://doi.org/10.26442/20795696.2024.2.202733
- ID: 569183
Cite item
Full Text
Abstract
Endometriosis affects about 10% of women of reproductive age and can negatively impact their quality of life (QoL). Due to the heterogeneity of symptoms or even their absence, early diagnosis is difficult. Therefore, it is necessary to comprehensively assess the patient's complaints, including a thorough review of medical history, the results of imaging studies, and risk factors for endometriosis. Early diagnosis enables preemptive treatment and avoids surgical intervention. The article presents data on managing patients with endometriosis in outpatient settings, describing methods for non-invasive imaging diagnosis of endometriosis. Current options of pharmacotherapy aimed at controlling the development of the disease and improving the QoL of patients in the long term are addressed. Timely initiated drug treatment improves the QoL of patients, in some cases, leads to a regression of the lesions, and improves the prognosis for the reproductive function. A shift in focus to clinical diagnosis, combined with non-invasive imaging, shortens the time between the first consultation and the final diagnosis. According to the current view of Russian and international professional societies, therapy should be long-term; therefore, selecting treatment with predictable responses and monitoring the course of the disease is necessary.
Full Text
Введение
Эндометриоз является распространенным заболеванием и характеризуется ростом ткани, подобной эндометрию (включая эпителиальные клетки, стромальные фибробласты и иные), вне полости матки. В клинических и экспериментальных исследованиях показано, что рост эндометриоидных очагов (ЭО) обеспечивается комбинацией иммунной дисфункции, гормональной дисрегуляции и аберрантным развитием кровеносных сосудов [1–4].
Одной из ключевых проблем при оценке распространенности эндометриоза является вариабельность его проявлений: заболевание может обнаружиться случайно во время операции или, наоборот, сопровождаться широким спектром изнурительных симптомов [5–7]. В ряде случаев клинические проявления (КП) заболевания начинаются с менархе и становятся значимой проблемой для девушек, начиная с подросткового возраста [8]. В рекомендациях Европейского общества репродукции человека и эмбриологии (European Society of Human Reproduction and Embryology – ESHRE) 2022 г. впервые появился раздел, посвященный эндометриозу у подростков, где авторы рекомендуют акцентировать внимание на пациентках с дисменорей в случаях циклического пропуска занятий в школе или при приеме комбинированных оральных контрацептивов в связи с болезненными менструациями [9].
Симптомы зависят от формы заболевания, локализации, длительности процесса и ряда других факторов. К числу основных клинических признаков относят дисменорею, диспареунию, дисхезию и дизурию [10, 11]. Изначально боли могут быть циклическими, а затем приобретают хронический характер за счет развития центральной сенситизации [12]. Генитальный эндометриоз может сопровождаться не только болевым синдромом (БС), но и симптомами, характерными также для других заболеваний: усталостью, тошнотой, различными проявлениями тревожных расстройств [9, 13–15]. Так, в одном из исследований, проведенном в 2020 г., обнаружено, что в 75% случаев пациенткам с эндометриозом первично поставлены другие «мимикрирующие» диагнозы, в том числе и расстройства психического спектра [16]. Задержка постановки диагноза является одной из ключевых проблем эндометриоза. Больные обращаются к специалистам 5–10 раз и более, прежде чем им будет поставлен правильный диагноз и назначено адекватное лечение.
КП эндометриоза гетерогенны, также отсутствует четкая корреляция между жалобами пациенток и степенью распространения эндометриоза [17, 18]. В некоторых исследованиях показана взаимосвязь между КП и локализацией ЭО. Так, диспареуния в первую очередь связана с ректовагинальным и вагинальным эндометриозом (отношение шансов – ОШ 1,62, 95% доверительный интервал 1,13–2,33), а дисхезия – с ректоцервикальными очагами (ОШ 3,89, 95% доверительный интервал 1,68–9,01) [11]. Эндометриоз мочевого пузыря (МП) может проявляться дизурией или реже (в 6–30% случаев) циклической гематурией [19].
Диагностика на амбулаторном этапе
Без сомнения, необходимы тщательный сбор анамнеза, детальная оценка всех жалоб пациентки, а также не менее важно обращать внимание на наследственную предрасположенность к заболеванию, являющуюся, по различным данным, значимым фактором риска развития эндометриоза, выявляющимся приблизительно в 50% случаев [20]. Бимануальное исследование, которое часто игнорируют на амбулаторном приеме, помогает не только исключить некоторые другие состояния, ассоциированные с БС, но и заподозрить эндометриоз, особенно его глубокие формы, даже при отсутствии КП [21]. При влагалищном осмотре могут быть выявлены следующие признаки: фиксированная и резко смещенная при пальпации матка, наличие узлов в маточно-крестцовой области, утолщение, напряжение и/или образования в крестцово-маточных связках, мелкобугристое образование в ректовагинальной области, укорочение и напряжение сводов влагалища, объемные образования придатков. На следующем этапе нужно провести дообследование для подтверждения диагноза [22, 23].
В настоящее время лапароскопическая визуализация эндометриоза остается «золотым стандартом» в диагностике заболевания, позволяющим гистологически подтвердить диагноз. Однако лапароскопия является инвазивной процедурой и ассоциирована с различными рисками, а отрицательный результат гистологического заключения в ряде случаев не исключает наличия заболевания [9].
Исследователи используют несколько систем классификации эндометриоза, основанных на лапароскопической визуализации очагов, их анатомической локализации и наличии тазовых спаек, в том числе представленные в подтвержденных отечественных клинических рекомендациях (КР) [23, 24]. Пересмотренная система классификации Американского общества репродуктивной медицины (The revised American Society for Reproductive Medicine – rASRM) является наиболее широко используемой во всем мире и включает 4 стадии, в критерии которых входят количественные оценки объема поражений, глубина инфильтрации, выраженность спаечного процесса. Систему классификации ENZIAN используют в качестве дополнения к rASRM для подробного описания глубокого инфильтративного эндометриоза (ГИЭ). Консенсусом Всемирного общества по эндометриозу (World Endometriosis Society – WES) отмечена необходимость разработки «эмпирической» (на основании клинической картины и неинвазивных методов диагностики) системы классификации, для того чтобы снизить количество лапароскопических операций [25].
В последние годы отмечается совершенствование методов инструментальной диагностики эндометриоза, а именно ультразвукового исследования (УЗИ) и магнитно-резонансной томографии (МРТ).
Оценку возможной локализации ЭО проводят в 3 основных компартментах таза: переднем, среднем и заднем. МП, дистальные сегменты мочеточников, брюшина пузырной поверхности матки, пузырно-маточная перегородка и круглые связки матки составляют передний отдел. В среднем расположены матка и придатки, а задний представлен ретроцервикальным пространством, Дугласовым пространством, задним сводом влагалища, крестцово-маточными связками, ректовагинальной перегородкой и ректосигмоидным отделом толстой кишки [26].
К 1-й линии диагностики относится трансректальное/трансвагинальное УЗИ (тв-УЗИ), которое достоверно позволяет определить наличие эндометриоидных кист (ЭК) в яичниках и очагов наружного генитального эндометриоза диаметром более 1–1,5 см [27, 28]. По данным M. Bazot и соавт. (2004 г.), точность тв-УЗИ повышается при эндометриозе кишечника (когда визуализируется гипоэхогенное линейное утолщение в области кишки или узелки/образования с правильными контурами или без них), МП (когда очаг более четко визуализируется в стенке на фоне жидкостного содержимого МП) и ниже при поражении маточно-крестцовых связок, влагалища и ректовагинального пространства [29]. Для стандартизации протокола УЗИ в диагностике ГИЭ приняты и используются параметры Международной группы по изучению глубокого эндометриоза (International Deep Endometriosis Analysis group – IDEA) [30]. Диагностическая точность УЗИ коррелирует с опытом специалиста, проводящего исследование, поэтому среди более точных методов диагностики эндометриоза, а также при сомнительных результатах тв-УЗИ в качестве уточняющего метода используют МРТ [31]. Большинство авторов солидарны во мнении, что МР-диагностику эндометриоза должны проводить специалисты с опытом в интерпретации изображений органов малого таза у женщин.
Согласно КР Минздрава России при подозрении на ГИЭ необходимо проводить МРТ для оценки степени инвазии заболевания и определения дальнейшей тактики, в частности возможности консервативного ведения пациентки [23].
МРТ – метод визуализации с наиболее высокой диагностической точностью для оценки локализации и объемов ЭО, который обладает высокой специфичностью для ЭО благодаря естественному мягкому тканевому контрасту, высокой чувствительностью к геморрагическим компонентам (в том числе малых размеров) [32]. Тем не менее достижение высокой точности интерпретации получаемых изображений определяется, с одной стороны, их качеством (адекватной подготовкой пациентки, в том числе с использованием антиперистальтических препаратов, применением специализированных последовательностей для снижения двигательных артефактов в условиях спаечного процесса, корректным позиционированием срезов по осям очагов / шейки матки / прямой кишки в зависимости от вовлечения в процесс), а с другой – опытом рентгенолога в оценке патологии женского таза, в частности знанием наиболее частых и критических локализаций, необходимости детальной оценки степени инвазии стенок МП / толстой кишки / нервных сплетений / вовлечения мочеточников, анализа активности процесса на основе сигнальных характеристик.
При выполнении приведенных условий МРТ высокоинформативна в детализации распространенности процесса, которая формирует возможности 3D-картирования очагов в целях обоснованного отбора пациенток для хирургического лечения и его планирования [33]. Благодаря подробной оценке всех локализаций ЭО необходимость в инвазивной диагностике снижается, а консервативное лечение (КЛ) может рассматриваться в качестве эмпирического лечения при ранних формах эндометриоза и без гистологического подтверждения диагноза, что подчеркнуто в уже упомянутых рекомендациях ESHRE.
Кроме того, с учетом дополнительных возможностей МРТ все чаще используют для оценки эффективности КЛ или хирургического лечения. Трансформация фокуса на клинической диагностике в сочетании с неинвазивной визуализацией сокращает время между первой консультацией и окончательным диагнозом, однако использование неинвазивных методов требует тщательного подхода для обеспечения значимых и последовательных результатов.
Медикаментозная терапия эндометриоза
После подтверждении диагноза обсуждают возможные варианты лечения: КЛ для купирования симптомов и контроля распространения очагов на долгосрочную перспективу или чаще всего оперативное лечение, которое сопряжено с интра- и послеоперационными рисками. Снижение овариального резерва и риск развития ятрогенной преждевременной недостаточности яичников по-прежнему остаются одними из причин нереализованной репродуктивной функции у молодых женщин [34].
Эндометриоз – хроническое заболевание, а риск рецидива после оперативного вмешательства (ОВ), по различным данным, составляет более 50%, соответственно, возникает необходимость в длительном консервативном ведении пациенток с учетом их репродуктивных планов и предпочтений. Современный подход к лечению эндометриоза должен быть ориентирован на пациенток и сводить к минимуму ОВ [31, 35].
Медикаментозная терапия является ключевой опцией для долгосрочного ведения пациенток с эндометриозом [36]. Преимущества использования лучевых методов диагностики заключаются как в возможности контроля размеров очагов на фоне терапии, так и в способности стандартизировать протокол ведения пациенток на основе предикции ответа на терапию. Современные препараты для лечения эндометриоза действуют путем подавления активности яичников либо непосредственного воздействия на стероидные рецепторы и ферменты в ЭО. В настоящее время наиболее часто используемыми в клинической практике препаратами, доступными в России, являются прогестагены, комбинированные гормональные контрацептивы (КГК) и агонисты гонадотропин-рилизинг-гормона (а-ГнРГ). Все препараты приводят к клинически значимому уменьшению боли и улучшению качества жизни (КЖ) по сравнению с плацебо, а в ряде случаев и к уменьшению размеров ЭО [37].
Согласно КР Минздрава России по эндометриозу препаратами терапии 1-й линии являются прогестагены (диеногест, дидрогестерон, норэтистерон) [23]. Один из хорошо изученных прогестагенов, который оказывает плейотропный эффект на различные фенотипы эндометриоза, – диеногест. Так, M. Matsuura и соавт. (2014 г.) оценивали значение индекса коэффициента диффузии (ИКД) ЭК для прогнозирования ответа на гормонотерапию диеногестом и установили, что кисты с более низким базовым значением ИКД менее подвержены регрессу, что дает возможность использовать показатель как дополнительный предиктор ответа эндометриом на гормональную терапию (cредний коэффициент уменьшения – 38,8±26,3%, среднее значение ИКД – 1,37±0,77) [38].
По сводным данным, снижение выраженности симптомов хронической тазовой боли (ТБ), дисменореи и диспареунии по Визуальной аналоговой шкале наблюдалось после 6 мес приема диеногеста, а размер эндометриом по данным МРТ и тв-УЗИ уменьшался на 20% на 3-м и на 40% на 6-м месяце терапии [39–42]. В исследовании J. Leonardo-Pinto и соавт. (2017 г.) также показан положительный эффект диеногеста на КЖ пациенток, однако существенных изменений в объеме очагов ГИЭ через 12 мес не выявлено:
- при эндометриозе кишечника: до – 2,18±2,99 см3, после – 2,21±4,06 см3 (р=0,23);
- ретроцервикальные очаги: до – 2,21±1,46 см3, после – 2,34±1,90 см3 (р=0,77) [43].
Поскольку прием диеногеста в ряде случаев вызывает нежелательные явления, пациентки самостоятельно отменяют терапию и не обращаются к врачу для последующего подбора лечения, что приводит к прогрессированию заболевания и/или рецидиву [31, 44]. Так, в исследовании K. Nirgianakis и соавт. (2021 г.) показано, что 28,7% (35/122) пациенток прекратили прием диеногеста из-за побочных явлений (ПЯ), а 10,7% (13/122) – вследствие неэффективности купирования симптомов в сочетании с ПЯ [45].
Другим сопоставимым по клиническому эффекту гестагеном является дидрогестерон, который максимально приближен по химической структуре к «эндогенному» прогестерону [46] и имеет сродство только к прогестероновым рецепторам, не обладает андрогенной и анаболической активностями и обеспечивает высокий профиль безопасности и переносимости. Согласно позиции Российского общества акушеров-гинекологов препарат можно применять в циклическом (с 16 по 25-й день менструального цикла), циклическом пролонгированном (с 5 по 25-й день менструального цикла) или непрерывном режимах. В 2023 г. стали доступны алгоритмы ведения пациенток с эндометриозом, в которых четко расписаны схемы терапии дидрогестероном и отмечено преимущество его использования у пациенток при наличии репродуктивных планов [47].
В исследовании по оценке влияния дидрогестерона на ЭО, в частности на ЭК яичников, показан положительный эффект в 75% случаях, в частности регресс объема эндометриом и отсутствие прогрессирования при оценке на 5-й месяц лечения [48]. F. Taniguchi и соавт. (2019 г.) показали уменьшение ТБ, дисменореи, диспареунии уже после первого цикла лечения дидрогестероном и хорошую переносимость препарата [49].
В настоящее время накапливается опыт применения дидрогестерона при различных фенотипах эндометриоза. Возрастающий интерес к данному препарату обусловлен его хорошим профилем безопасности и эффективности в отношении дисменореи [50]. Улучшение КЖ пациенток и отсутствие прогрессирования заболевания являются ключевыми аспектами в подборе долгосрочной терапии.
У пациенток, заинтересованных в контрацепции, препаратом выбора остаются КГК. Согласно Российским КР и ESHRE назначение КГК можно отнести к эмпирической терапии эндометриоза ввиду их влияния на выработку простагландинов и уменьшение дисменореи [9]. Известно, что КГК предотвращают рецидив эндометриоза после операции, уменьшают частоту и тяжесть ТБ [51–54].
В литературе представлены исследования, в которых на фоне терапии КГК показаны разноречивые результаты на клиническую симптоматику и динамику объемов ЭО. В рандомизированном клиническом исследовании, проведенном Т. Harada и соавт. (2008 г.), объем эндометриом во время лечения КГК, содержащих 1 мг норэтистерона и этинилэстрадиола 35 мг, уменьшился по сравнению с группой пациенток, принимавших плацебо [52]. В более позднем их исследовании показано, что применение КГК (этинилэстрадиола 20 мкг / дросперинона 3 мг) значимо уменьшает тяжесть дисменореи, однако в меньшей степени действует на объем эндометриом (размер уменьшился с 2,0±1,5 до 1,2±1,0) [55]. В сравнительном исследовании S. Angioni и соавт. (2020 г.) сообщается об уменьшении объема эндометриом от исходного на 75% (до терапии – 65±10 мл, через 6 мес – 16±5 мл) на фоне приема диеногеста, в отличие от его сочетания с 30 мкг этинилэстрадиола, где объем снизился лишь на 15% (до терапии – 76±20 мл, через 6 мес – 65±25 мл) [56].
В систематическом обзоре, в котором оценивали эффекты различных видов медикаментозной терапии эндометриоза, число пациенток, испытывающих болевые симптомы к концу лечения, было выше при применении КГК по сравнению с прогестагенами и а-ГнРГ [57].
В российских и международных КР упоминаются высокая эффективность а-ГнРГ и возможность применения их при распространенных формах эндометриоза, а также необходимость сочетания их с дополнительной add-back (возвратной) терапией при использовании более 6 мес в связи с гипоэстрогенными ПЯ.
Механизм действия основан на связывании с рецепторами ГнРГ, который вызывает сначала резкий выброс гонадотропинов с последующим их снижением. Без пульсаторного выброса ГнРГ снижается секреция фолликулостимулирующего и лютеинизирующего гормонов, что приводит к низкому уровню эстрадиола и атрофии эндометрия, а в итоге – к регрессии ЭО. Несмотря на это эффективность а-ГнРГ в уменьшении размера ЭО остается неоднозначной [58, 59]. В исследовании Н. Tsujioka и соавт. (2008 г.) уменьшение размера ЭК с 66,0±2,0 мм до 51,0±2,4 мм зарегистрировано у пациенток после 3–6-месячного лечения а-ГнРГ [58]. Напротив, в исследовании А. Cantor и соавт. (2019 г.) сообщено о незначительных изменениях размера кист на фоне терапии а-ГнРГ (с 34,0±7,0 мм до 32±8,0 мм) [59].
Препараты рассматриваемой группы активно используют в амбулаторной практике и после ОВ в качестве противорецидивной терапии эндометриоза. Известно, что а-ГнРГ эффективны как в уменьшении объема ЭО, так и в купировании тяжелой дисменореи [60]. Согласно результатам исследования M. Ceccaroni и соавт. (2021 г.) прием а-ГнРГ в течение 6 мес после операции снижает БС, что сохраняется на протяжении 30 мес после отмены препарата [61].
Количество исследований о влиянии различных видов терапии на очаги эндометриоза остается недостаточным, а клиническая картина заболевания гетерогенна и не всегда является предиктором тяжести заболевания. Возможно, с улучшением диагностики заболевания и своевременным назначением терапии будет снижаться необходимость в оперативном лечении эндометриоза.
Заключение
Эндометриоз – хроническое заболевание, которое может оказывать серьезное влияние на КЖ, являясь тяжелым бременем как для пациенток, так и для системы здравоохранения. Из-за гетерогенной природы эндометриоза его диагностика и лечение представляют серьезную клиническую проблему.
В целом, результаты исследований показали, что прогестагены обладают более высоким профилем безопасности и сопоставимы с остальными группами препаратов, применяемых в лечении эндометриоза, а согласно некоторым данным – и выше их по эффективности. Однако остаются ограниченными данные об изменениях в ЭО на фоне проводимого лечения. Очевидно, что приведенная информация может стать ключевой в выборе тактики лечения на амбулаторном этапе и даст специалистам инструмент для стандартизации протоколов терапии с возможностью прогноза ответа на лечение при различных фенотипах заболевания. Современная траектория ведения пациенток с эндометриозом должна быть индивидуализирована с использованием комплексного мультимодального и междисциплинарного подхода, ориентированного на конкретного больного.
Раскрытие интересов. Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.
Disclosure of interest. The authors declare that they have no competing interests.
Вклад авторов. Авторы декларируют соответствие своего авторства международным критериям ICMJE. А.Е. Солопова, П.М. Алиева, М.Р. Думановская, Г.И. Табеева, Ю.А. Иванникова – концепция и дизайн; А.Е. Солопова, П.М. Алиева, М.Р. Думановская – написание текста; А.А. Сметник, С.В. Павлович – редактирование, окончательное утверждение текста статьи.
Authors’ contribution. The authors declare the compliance of their authorship according to the international ICMJE criteria. A.E. Solopova, P.M. Alieva, M.R. Dumanovskaya, G.I. Tabeeva, Iu.A. Ivannikova – concept and design; A.E. Solopova, P.M. Alieva, M.R. Dumanovskaya – writing text; A.A. Smetnik, S.V. Pavlovich – editing, final approval of the article text.
Источник финансирования. Исследование было поддержано правительством. Государственное задание Минздрава России в ФГБУ «НМИЦ АГП им. акад. В.И. Кулакова» №122020900125-8 «Разработка дифференцированного подхода к ведению пациенток репродуктивного возраста с различными формами эндометриоза».
Funding source. The study was supported by the Governmental. State task of the Ministry of Health of Russia in Kulakov National Medical Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology №122020900125-8 “Development of a differentiated approach to the management of patients of reproductive age with various forms of endometriosis”.
About the authors
Alina E. Solopova
Kulakov National Medical Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology
Email: a_solopova@oparina4.ru
ORCID iD: 0000-0003-4768-115X
D. Sci. (Med.), Kulakov National Medical Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology
Russian Federation, MoscowPatimat M. Alieva
Kulakov National Medical Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology
Author for correspondence.
Email: aalievapm@gmail.com
obstetrician-gynecologist, Graduate Student, Kulakov National Medical Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology
Russian Federation, MoscowMadina R. Dumanovskaya
Kulakov National Medical Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology
Email: m_dumanovskaya@oparina4.ru
ORCID iD: 0000-0001-7286-6047
Cand. Sci. (Med.), Kulakov National Medical Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology
Russian Federation, MoscowGuzal I. Tabeeva
Kulakov National Medical Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology
Email: g_tabeeva@oparina4.ru
ORCID iD: 0000-0003-1498-6520
Cand. Sci. (Med.), Kulakov National Medical Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology
Russian Federation, MoscowIuliia A. Ivannikova
Sechenov First Moscow State Medical University (Sechenov University)
Email: ivannikova0@yandex.ru
Medical Resident, Sechenov First Moscow State Medical University (Sechenov University)
Russian Federation, MoscowAntonina A. Smetnik
Kulakov National Medical Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology
Email: a_smetnik@oparina4.ru
ORCID iD: 0000-0002-0627-3902
Cand. Sci. (Med.), Kulakov National Medical Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology
Russian Federation, MoscowStanislav V. Pavlovich
Kulakov National Medical Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology; Sechenov First Moscow State Medical University (Sechenov University)
Email: s_pavlovich@oparina4.ru
ORCID iD: 0000-0002-1313-7079
Cand. Sci. (Med.), Kulakov National Medical Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology, Sechenov First Moscow State Medical University (Sechenov University)
Russian Federation, Moscow; MoscowReferences
- Wang Y, Nicholes K, Shih IM. The Origin and Pathogenesis of Endometriosis. Annu Rev Pathol. 2020;15:71-95. doi: 10.1146/annurev-pathmechdis-012419-032654
- Ahn SH, Monsanto SP, Miller C, et al. Pathophysiology and Immune Dysfunction in Endometriosis. Biomed Res Int. 2015;2015:795976. doi: 10.1155/2015/795976
- Symons LK, Miller JE, Kay VR, et al. The Immunopathophysiology of Endometriosis. Trends Mol Med. 2018;24(9):748-62. doi: 10.1016/j.molmed.2018.07.004
- Азнаурова Я.Б., Петров И.А., Сунцова М.В., и др. Взаимосвязь экспрессии генов и степени активации сигнальных путей в эутопическом и эктопическом эндометрии пациенток с наружным генитальным эндометриозом. Проблемы репродукции. 2018;24(4):13-21 [Aznaurova YaB, Petrov IA, Suntsova MV, et al. Interconnection between gene expression and signaling pathways activation profiles in eutopic and ectopic endometrium of patients with external genital endometriosis. Russian Journal of Human Reproduction. 2018;24(4):13-21 (in Russian)]. doi: 10.17116/repro20182404113
- Rush G, Misajon R. Examining subjective wellbeing and health-related quality of life in women with endometriosis. Health Care Women Int. 2018;39(3):303-21. doi: 10.1080/07399332.2017.1397671
- Subedi SS, Bhansakarya R, Shrestha P, Sharma SK. Outcome of Laparoscopy in Infertile Couples attending a Teaching Hospital in Eastern Nepal: A Descriptive Cross-sectional Study. JNMA J Nepal Med Assoc. 2020;58(231):889-92. doi: 10.31729/jnma.5542
- Nnoaham KE, Hummelshoj L, Webster P, et al. Impact of endometriosis on quality of life and work productivity: a multicenter study across ten countries. Fertil Steril. 2011;96(2):366-73.e8. doi: 10.1016/j.fertnstert.2011.05.090
- Martire FG, Russo C, Selntigia A, et al. Early noninvasive diagnosis of endometriosis: dysmenorrhea and specific ultrasound findings are important indicators in young women. Fertil Steril. 2023;119(3):455-64. doi: 10.1016/j.fertnstert.2022.12.004
- Becker CM, Bokor A, Heikinheimo O, et al. ESHRE guideline: endometriosis. Hum Reprod Open. 2022;2022(2):hoac009. doi: 10.1093/hropen/hoac009
- Avila I, Filogônio ID, Costa LM, Carneiro MM. Anatomical distribution of deep infiltrating endometriosis and its relationship to pelvic pain. J Gynecol Surg. 2016;32:99-103. doi: 10.1089/gyn.2015.0092
- Dai Y, Leng JH, Lang JH, et al. Anatomical distribution of pelvic deep infiltrating endometriosis and its relationship with pain symptoms. Chin Med J (Engl). 2012;125(2):209-13.
- Green IC, Burnett T, Famuyide A. Persistent Pelvic Pain in Patients With Endometriosis. Clin Obstet Gynecol. 2022;65(4):775-85. doi: 10.1097/GRF.0000000000000712
- Signorile PG, Cassano M, Viceconte R, et al. Endometriosis: A Retrospective Analysis of Clinical Data from a Cohort of 4,083 Patients, With Focus on Symptoms. In Vivo. 2022;36(2):874-83. doi: 10.21873/invivo.12776
- Evans SF, Brooks TA, Esterman AJ, et al. The comorbidities of dysmenorrhea: a clinical survey comparing symptom profile in women with and without endometriosis. J Pain Res. 2018;11:3181-94. doi: 10.2147/JPR.S179409
- Fauconnier A, Staraci S, Huchon C, et al. Comparison of patient- and physician-based descriptions of symptoms of endometriosis: a qualitative study. Hum Reprod. 2013;28(10):2686-94. doi: 10.1093/humrep/det310
- Bontempo AC, Mikesell L. Patient perceptions of misdiagnosis of endometriosis: results from an online national survey. Diagnosis (Berl). 2020;7(2):97-106. doi: 10.1515/dx-2019-0020
- Chapron C, Lang JH, Leng JH, et al. Factors and Regional Differences Associated with Endometriosis: A Multi-Country, Case-Control Study. Adv Ther. 2016;33(8):1385-407. doi: 10.1007/s12325-016-0366-x
- Ballard KD, Seaman HE, de Vries CS, Wright JT. Can symptomatology help in the diagnosis of endometriosis? Findings from a national case-control study – Part 1. BJOG. 2008;115(11):1382-91. doi: 10.1111/j.1471-0528.2008.01878.x
- Novellas S, Chassang M, Bouaziz J, et al. Anterior pelvic endometriosis: MRI features. Abdom Imaging. 2010;35(6):742-9. doi: 10.1007/s00261-010-9600-1
- Saha R, Pettersson HJ, Svedberg P, et al. Heritability of endometriosis. Fertil Steril. 2015;104(4):947-52. doi: 10.1016/j.fertnstert.2015.06.035
- Allaire C, Bedaiwy MA, Yong PJ. Diagnostic et gestion thérapeutique de l’endométriose. CMAJ. 2023;195(24):E853-62. doi: 10.1503/cmaj.220637-f
- Riazi H, Tehranian N, Ziaei S, et al. Clinical diagnosis of pelvic endometriosis: a scoping review. BMC Womens Health. 2015;15:39. doi: 10.1186/s12905-015-0196-z
- Эндометриоз: клинические рекомендации Минздрава России. 2020. Режим доступа: https://cr.minzdrav.gov.ru/recomend/259_1. Ссылка активна на 05.09.2023 [Endometrioz: klinicheskie rekomendatsii Minzdrava Rossii. 2020. Available at: https://cr.minzdrav.gov.ru/recomend/259_1. Accessed: 05.09.2023 (in Russian)].
- Tomassetti C, Johnson NP, Petrozza J, et al. An international terminology for endometriosis. Facts Views Vis Obgyn. 2021;13(4):295-304. doi: 10.52054/FVVO.13.4.036
- Johnson NP, Hummelshoj L, Adamson GD, et al. World Endometriosis Society consensus on the classification of endometriosis. Hum Reprod. 2017;32(2):315-24. doi: 10.1093/humrep/dew293
- Vigueras Smith A, Cabrera R, Trippia C, et al. Indirect and atypical imaging signals of endometriosis: A wide range of manifestations. Facts Views Vis Obgyn. 2021;13(4):339-56. doi: 10.52054/FVVO.13.4.048
- Sud S, Buxi TBS, Sheth S, Ghuman SS. Endometriosis and Its Myriad Presentations: Magnetic Resonance Imaging-Based Pictorial Review. Indian J Radiol Imaging. 2021;31(1):193-202. doi: 10.1055/s-0041-1729670
- Baușic A, Coroleucă C, Coroleucă C, et al. Transvaginal Ultrasound vs Magnetic Resonance Imaging (MRI) Value in Endometriosis Diagnosis. Diagnostics (Basel). 2022;12(7):1767. doi: 10.3390/diagnostics12071767
- Bazot M, Thomassin I, Hourani R, et al. Diagnostic accuracy of transvaginal sonography for deep pelvic endometriosis. Ultrasound Obstet Gynecol. 2004;24(2):180-5. doi: 10.1002/uog.1108
- Guerriero S, Condous G, van den Bosch T, et al. Systematic approach to sonographic evaluation of the pelvis in women with suspected endometriosis, including terms, definitions and measurements: a consensus opinion from the International Deep Endometriosis Analysis (IDEA) group. Ultrasound Obstet Gynecol. 2016;48(3):318-32. doi: 10.1002/uog.15955
- Chapron C, Marcellin L, Borghese B, Santulli P. Rethinking mechanisms, diagnosis and management of endometriosis. Nat Rev Endocrinol. 2019;15(11):666-82. doi: 10.1038/s41574-019-0245-z
- Bazot M, Bharwani N, Huchon C, et al. European society of urogenital radiology (ESUR) guidelines: MR imaging of pelvic endometriosis. Eur Radiol. 2017;27(7):2765-75. doi: 10.1007/s00330-016-4673-z
- Borghese G, Coppola F, Raimondo D, et al. 3D Patient-Specific Virtual Models for Presurgical Planning in Patients with Recto-Sigmoid Endometriosis Nodules: A Pilot Study. Medicina (Kaunas). 2022;58(1). doi: 10.3390/medicina58010086
- Uncu G, Kasapoglu I, Ozerkan K, et al. Prospective assessment of the impact of endometriomas and their removal on ovarian reserve and determinants of the rate of decline in ovarian reserve. Hum Reprod. 2013;28(8):2140-5. doi: 10.1093/humrep/det123
- Vannuccini S, Clemenza S, Rossi M, Petraglia F. Hormonal treatments for endometriosis: The endocrine background. Rev Endocr Metab Disord. 2022;23(3):333-55. doi: 10.1007/s11154-021-09666-w
- Casper RF. Introduction: A focus on the medical management of endometriosis. Fertil Steril. 2017;107(3):521-2. doi: 10.1016/j.fertnstert.2017.01.008
- Mitchell JB, Chetty S, Kathrada F. Progestins in the symptomatic management of endometriosis: a meta-analysis on their effectiveness and safety. BMC Womens Health. 2022;22(1):526. doi: 10.1186/s12905-022-02122-0
- Matsuura M, Tamate M, Tabuchi Y, et al. Prediction of the therapeutic effect of dienogest in ovarian endometrial cysts using the apparent diffusion coefficient. Gynecol Endocrinol. 2014;30(8):597-9. doi: 10.3109/09513590.2014.911277
- Uludag SZ, Demirtas E, Sahin Y, Aygen EM. Dienogest reduces endometrioma volume and endometriosis-related pain symptoms. J Obstet Gynaecol. 2021;41(8):1246-51. doi: 10.1080/01443615.2020.1867962
- Saglik Gokmen B, Topbas Selcuki NF, Aydın A, et al. Effects of Dienogest Therapy on Endometriosis-Related Dysmenorrhea, Dyspareunia, and Endometrioma Size. Cureus. 2023;15(1):e34162. doi: 10.7759/cureus.34162
- Kizilkaya Y, Ibanoglu MC, Kıykac Altinbas S, Engin-Ustun Y. A prospective study examining the effect of dienogest treatment on endometrioma size and symptoms. Gynecol Endocrinol. 2022;38(5):403-6. doi: 10.1080/09513590.2022.2053956
- Muzii L, Galati G, Di Tucci C, et al. Medical treatment of ovarian endometriomas: a prospective evaluation of the effect of dienogest on ovarian reserve, cyst diameter, and associated pain. Gynecol Endocrinol. 2020;36(1):81-3. doi: 10.1080/09513590.2019.1640199
- Leonardo-Pinto JP, Benetti-Pinto CL, Cursino K, Yela DA. Dienogest and deep infiltrating endometriosis: The remission of symptoms is not related to endometriosis nodule remission. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2017;211:108-11. doi: 10.1016/j.ejogrb.2017.02.015
- Chen LH, Lo WC, Huang HY, Wu HM. A Lifelong Impact on Endometriosis: Pathophysiology and Pharmacological Treatment. Int J Mol Sci. 2023;24(8). doi: 10.3390/ijms24087503
- Nirgianakis K, Vaineau C, Agliati L, et al. Risk factors for non-response and discontinuation of Dienogest in endometriosis patients: A cohort study. Acta Obstet Gynecol Scand. 2021;100(1):30-40. doi: 10.1111/aogs.13969
- Griesinger G, Tournaye H, Macklon N, et al. Dydrogesterone: pharmacological profile and mechanism of action as luteal phase support in assisted reproduction. Reprod Biomed Online. 2019;38(2):249-59. doi: 10.1016/j.rbmo.2018.11.017
- Сухих Г.Т., Серов В.Н., Адамян Л.В., и др. Алгоритмы ведения пациенток с эндометриозом: согласованная позиция экспертов Российского общества акушеров-гинекологов. Акушерство и гинекология. 2023;5:159-76 [Sukhikh GT, Serov VN, Adamyan LV, et al. Algorithms for the management of patients with endometriosis: the agreed position of experts of the Russian Society of Obstetricians and Gynecologists. Obstetrics and Gynecology. 2023;5:159-76 (in Russian)]. doi: 10.18565/aig.2023.132
- Kitawaki J, Koga K, Kanzo T, Momoeda M. An assessment of the efficacy and safety of dydrogesterone in women with ovarian endometrioma: An open-label multicenter clinical study. Reprod Med Biol. 2021;20(3):345-51. doi: 10.1002/rmb2.12391
- Taniguchi F, Ota I, Iba Y, et al. The efficacy and safety of dydrogesterone for treatment of dysmenorrhea: An open-label multicenter clinical study. J Obstet Gynaecol Res. 2019;45(1):168-75. doi: 10.1111/jog.13807
- Сухих Г.Т., Адамян Л.В., Дубровина С.О., и др. Длительные циклические и непрерывные режимы приема дидрогестерона эффективны для уменьшения хронической тазовой боли у женщин с эндометриозом: результаты исследования ORCHIDEA. Fertil Steril. 2021;116(06):1568-77 [Sukhikh GT, Adamyan LV, Dubrovina SO, et al. Prolonged cyclical and continuous regimens of dydrogesterone are effective for reducing chronic pelvic pain in women with endometriosis: results of the ORCHIDEA study. Fertil Steril. 2021;116(06):1568-77 (in Russian)]. doi: 10.1016/j.fertnstert.2021.07.1194
- Triantafyllidou O, Kolovos G, Voros C, et al. Time to full effect, following treatment with combined oral contraceptives (cyclic versus continuous administration) in patients with endometriosis after laparoscopic surgery: a prospective cohort study. Hum Fertil (Camb). 2022;25(1):72-9. doi: 10.1080/14647273.2019.1704451
- Harada T, Momoeda M, Taketani Y, et al. Low-dose oral contraceptive pill for dysmenorrhea associated with endometriosis: a placebo-controlled, double-blind, randomized trial. Fertil Steril. 2008;90(5):1583-8. doi: 10.1016/j.fertnstert.2007.08.051
- Seracchioli R, Mabrouk M, Frascà C, et al. Long-term oral contraceptive pills and postoperative pain management after laparoscopic excision of ovarian endometrioma: a randomized controlled trial. Fertil Steril. 2010;94(2):464-71. doi: 10.1016/j.fertnstert.2009.03.083
- Takamura M, Koga K, Osuga Y, et al. Post-operative oral contraceptive use reduces the risk of ovarian endometrioma recurrence after laparoscopic excision. Hum Reprod. 2009;24(12):3042-8. doi: 10.1093/humrep/dep297
- Harada T, Kosaka S, Elliesen J, et al. Ethinylestradiol 20 μg/drospirenone 3 mg in a flexible extended regimen for the management of endometriosis-associated pelvic pain: a randomized controlled trial. Fertil Steril. 2017;108(5):798-805. doi: 10.1016/j.fertnstert.2017.07.1165
- Angioni S, Pontis A, Malune ME, et al. Is dienogest the best medical treatment for ovarian endometriomas? Results of a multicentric case control study. Gynecol Endocrinol. 2020;36(1):84-6. doi: 10.1080/09513590.2019.1640674
- Becker CM, Gattrell WT, Gude K, Singh SS. Reevaluating response and failure of medical treatment of endometriosis: a systematic review. Fertil Steril. 2017;108(1):125-36. doi: 10.1016/j.fertnstert.2017.05.004
- Tsujioka H, Inoue Y, Emoto M, et al. The efficacy of preoperative hormonal therapy before laparoscopic cystectomy of ovarian endometriomas. J Obstet Gynaecol Res. 2009;35(4):782-6. doi: 10.1111/j.1447-0756.2009.01017.x
- Cantor A, Tannus S, Son WY, et al. A comparison of two months pretreatment with GnRH agonists with or without an aromatase inhibitor in women with ultrasound-diagnosed ovarian endometriomas undergoing IVF. Reprod Biomed Online. 2019;38(4):520-7. doi: 10.1016/j.rbmo.2018.12.028
- Surrey ES. GnRH agonists in the treatment of symptomatic endometriosis: a review. F S Rep. 2023;4(Suppl. 2):40-5. doi: 10.1016/j.xfre.2022.11.009
- Ceccaroni M, Clarizia R, Liverani S, et al. Dienogest vs GnRH agonists as postoperative therapy after laparoscopic eradication of deep infiltrating endometriosis with bowel and parametrial surgery: a randomized controlled trial. Gynecol Endocrinol. 2021;37(10):930-3. doi: 10.1080/09513590.2021.1929151
Supplementary files