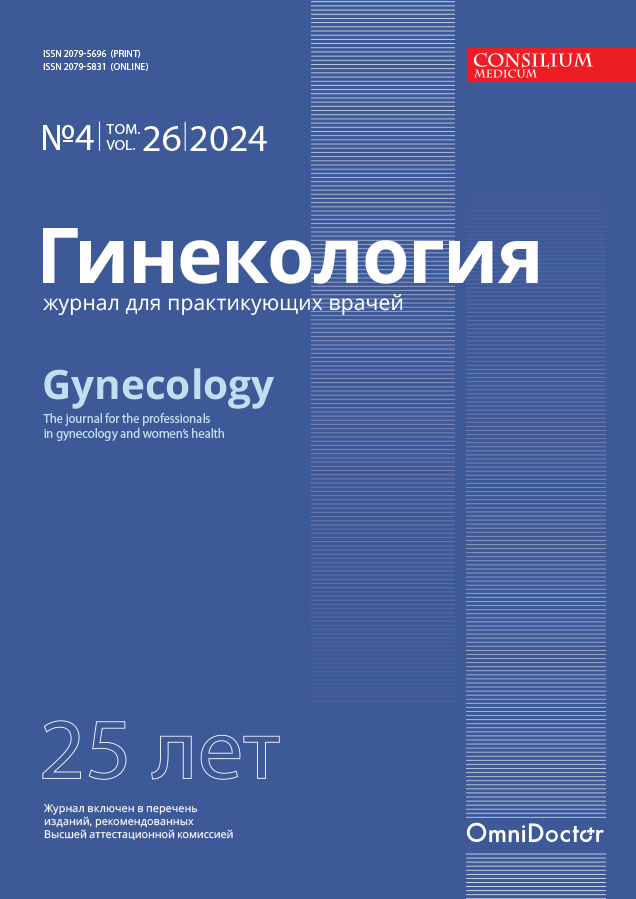Treatment of uterine fibroid: focus on endometrial receptivity. A pilot randomized prospective study
- Authors: Dobrokhotova Y.E.1, Lapina I.A.1, Gomzikova V.M.1, Sorokin Y.А.2, Khatagova E.T.1, Allakhverdieva A.R.1, Olkhovskaya M.A.1
-
Affiliations:
- Pirogov Russian National Research Medical University
- Medsi group JSC
- Issue: Vol 26, No 4 (2024)
- Pages: 339-344
- Section: ORIGINAL ARTICLE
- Published: 27.12.2024
- URL: https://gynecology.orscience.ru/2079-5831/article/view/631977
- DOI: https://doi.org/10.26442/20795696.2024.4.202982
- ID: 631977
Cite item
Full Text
Abstract
Background. Uterine fibroid (UF) is one of the most relevant conditions in modern gynecology, adversely impacting the quality of life of patients with a symptomatic course. In addition, it can be a risk factor for reduced fertility or even infertility, significantly limiting reproductive potential. The impact of a benign tumor on the endometrium state is currently being actively discussed, which may become another potential target in UF therapy.
Aim. To evaluate the effect of hormonal therapy of symptomatic UF on the endometrium morphological and functional features and receptivity in patients of reproductive age.
Materials and methods. A pilot randomized prospective study was conducted, which included 45 patients of reproductive age with UF sized less than 12 obstetric weeks, mostly intramural localization (types 3–6 according to the International Federation of Gynecology and Obstetrics). Group 1 (n=24) included patients with UF who were treated with a selective progesterone receptor modulator, mifepristone 50 mg per day, and group 2 (n=21) – with gonadotropin-releasing hormone agonist triptorelin acetate 3.75 mg once every 28 days for 3 months. The samples from all patients were subjected to immunohistochemical examination before the start of drug therapy and at the first menstruation after the end of treatment.
Results. After 3 months of therapy, a more prominent improvement in the endometrium receptor status was noted in the mifepristone group due to a decrease in the ratio of progesterone to estrogen [2.21±0.47 vs 3.34 (1.42; 5.83) in group 1 and 2.35±0.35 vs 3.78 (3.11; 5.05) in group 2] and normalization of the level of leukemia inhibitory factor (mean value 9.4±3.51 vs 6.95±1.76).
Conclusion. A personalized approach to UF drug therapy is pathogenetically justified and helps to alleviate UF symptoms and improve patients' quality of life. Selective progesterone receptor modulators increase fertility, improve the receptivity and morphological and functional features of the endometrium, and reduce the need for surgeries, which is especially important in patients of reproductive age.
Full Text
Введение
В настоящее время миома матки (ММ) занимает второе место в структуре гинекологической заболеваемости и относится к числу наиболее распространенных доброкачественных опухолей женских половых органов [1–3]. Согласно мировым данным Всемирной организации здравоохранения данное заболевание сопровождает до 20–25% женщин репродуктивного возраста и до 50% женщин старше 40 лет [4]. При этом присутствует тенденция увеличения и «омоложения» данного показателя. Немаловажным является и то, что ММ диагностируется у каждой четвертой пациентки (23,5%) с бесплодием, при этом первичное бесплодие выявляется в 18–24% случаев, вторичное – в 25–56% [5, 6]. Однако работ по изучению механизмов влияния ММ на структурно-функциональные особенности эндометрия недостаточно. В ряде исследований показано, что субмукозная ММ оказывает непосредственное влияние на фертильность, однако значение интрамуральной ММ в снижении способности имплантации плодного яйца и влиянии на рецептивность остается спорным. Кроме того, в современной гинекологии существуют разные подходы как к консервативной терапии, так и хирургическому лечению ММ у женщин репродуктивного возраста. Таким образом, актуальным вопросом является подбор персонифицированных и эффективных методов коррекции данного заболевания и улучшения фертильности у этой когорты пациенток.
Современные представления о патогенезе и этиологии ММ включают в себя различные механизмы, в том числе гормональные и генетические аспекты, однако единой теории нет. По данным отечественных и международных работ, снижение репродуктивной функции при наличии ММ может быть связано с деформацией полости матки, нарушением кровотока в эндометрии, повышенной сократительной способностью матки, гормональными, паракринными и молекулярными модификациями в эндометрии, которые также создают неблагоприятные условия для имплантации [7–9].
Как известно, при наличии субмукозных узлов 0–2-го типа, по Международной федерации гинекологии и акушерства (FIGO), механизм развития неудач имплантации эмбриона помимо механических причин включает нарушение кровотока эндометрия, что приводит к избыточной воспалительной реакции [10–12]. C одной стороны, при интрамуральной локализации ММ, как утверждают некоторые авторы, нарушение фертильности возможно только при размерах более 4 см [11, 13]. Однако, с другой стороны, показано, что на частоту наступления беременности после проведения циклов вспомогательных репродуктивных технологий интерстициальные узлы, не деформирующие полость матки, оказывают влияние вне зависимости от максимального размера опухоли [14–16]. Таким образом, остается открытым вопрос о влиянии ММ на структурно-функциональные особенности эндометрия и его восприимчивость, которые могут быть причиной инфертильности.
В ряде исследований отмечено отсутствие воздействия интрамуральной ММ на транскрипт эндометрия, имеющего отношение к рецептивности матки и потенциалу имплантации. В частности, не обнаружено различий в экспрессии рецепторов эстрогена альфа (ER-α) и прогестерона (PR) на уровне матричной РНК, а различия в экспрессии маркеров рецептивности эндометрия HOXA10, HOXA11 и лейкемия-ингибирующий фактор (LIF) были минимальны [17, 18].
Однако при обследовании пациенток после миомэктомии отмечено увеличение экспрессии генов HOXA10 и HOXA11 эндометрия в группе интрамуральной ММ и улучшение репродуктивных исходов [19]. Кроме того, в исследовании B. Pier и соавт. показали, что у пациентов с интерстициальной ММ снижен LIF по сравнению с контрольной группой без ММ. При этом экспрессия рецептора PR не различалась между когортами; рецептор ER-α продемонстрировал тенденцию к увеличению, вызывая локальные изменения и подавляя экспрессию LIF [17]. Эти же данные подтверждают и отечественные исследования, однако обнаружена взаимосвязь с повышением экспрессии PR, а также снижением эстроген-прогестеронового индекса и количества пиноподий [20].
Таким образом, патогенетически обоснованной консервативной терапией ММ может быть применение селективных модуляторов рецепторов PR и агонистов гонадотропных рилизинг-гормонов (аГнРГ) [21], однако недостаточно данных о влиянии этих групп препаратов на фертильность таких пациенток. Цель исследования – оценить воздействие гормональной терапии на купирование симптомности ММ, динамику регресса миоматозных узлов, а также изменение показателей рецепторного статуса эндометрия.
Материалы и методы
В пилотное проспективное рандомизированное исследование включены 45 пациенток репродуктивного возраста (от 18 до 40 лет) с установленным диагнозом ММ. Все женщины подписали информированное добровольное согласие, произведено изучение клинико-анамнестических особенностей, определено состояние репродуктивной функции.
Критерии включения в исследование: наличие симптомной ММ 3–6 типов по FIGO не более 12 нед условной беременности, отсутствие патологии эндометрия, отсутствие противопоказаний к гормональной терапии, наличие информированного добровольного согласия.
Критерии исключения: возраст менее 18 лет и старше 40 лет, наличие патологии эндометрия по данным ультразвукового исследования (УЗИ) органов малого таза, тяжелая экстрагенитальная патология, пациентки с субмукозными (по FIGO типы 0–2) и субсерозными (по FIGO тип 7) узлами, проведение оперативного вмешательства по поводу ММ в анамнезе.
Всем женщинам проведено клинико-лабораторное обследование, УЗИ органов малого таза с эластографией, аспирационная биопсия эндометрия с гистологическим исследованием. Дополнительно выполнен расширенный иммуногистохимический (ИГХ) анализ рецепторного статуса эндометрия, включающий в себя оценку уровня экспрессии ER, PR, CD138, CD56, LIF1 на 19–25-й дни менструального цикла.
Путем простой рандомизации пациентки разделены на две группы, в каждой из которых проведено медикаментозное лечение в течение 3 мес (рис. 1). Эффективность проводимой терапии оценивалась в изменениях рецепторного статуса эндометрия, купировании симптомов, уменьшении объема матки. Конечной точкой исследования стала оценка репродуктивных исходов через год после окончания терапии.
Рис. 1. Дизайн исследования.
Fig. 1. Study design.
Образцы аспирационной биопсии эндометрия обрабатывали по общепринятой стандартной методике и заключали в парафин. С парафинового блока делались срезы и проводились ИГХ-реакции с антителами к PR (1E2, Roche-Ventana), ER (SP1, Roche-Ventana), CD56 (123C3, Roche-Ventana), CD138 [CD-138/syndecan-1 (B-A38), Roche-Ventana], LIF с использованием иммуногистостейнера Ventana BenchMark ULTRA. Для анализа результатов использовалась шкала гистологического счета H-Score.
Эластографию проводили после двухмерного УЗИ на аппарате Voluson E8 с программным обеспечением для эластографии (ElastoScan) и трансвагинальным датчиком на 4–9 МГц. Для оценки результатов использовался тип качественной оценки очага по Ueno и количественный коэффициент жесткости Strain Ratio (пороговое значение в пределах от 2 до 4). Для этого в режиме Strain Ratio выбиралась программа SR-ellips и фиксировались стандартизированные по размеру поля измерения в виде эллипса в проекции очага и вне перифокальной зоны, соотношение этих показателей и является коэффициентом жесткости.
Статистическая обработка данных выполнена с помощью программы StatSoft Statistica 10 с использованием стандартных алгоритмов. Статистически значимыми считали изменения (или отличия) показателей с вероятностью ошибки менее 0,05.
Результаты
После рандомизации группы были сопоставимы по возрасту, индексу массы тела (ИМТ), уровню антимюллерова гормона (АМГ), среднему диаметру ММ. Средний возраст пациенток на момент включения в исследование составил 34,54±4,4 года (в первой группе – 33,69±4,57, во второй – 35,55±4,18); средний ИМТ составил 24,04±4,8 кг, уровень АМГ – 2,33 [1, 32; 5, 48] нг/мл (табл. 1). На момент обследования все пациентки имели регулярный менструальный цикл (средняя продолжительность – 29,33±3,2 дня). Время от момента обнаружения ММ в среднем по группам не различалось и составило 6,78±2,84 года. По длительности бесплодия в первой группе отмечались более высокие показатели по сравнению со второй, основная причина статистической разницы – включение большего числа пациенток с вторичным бесплодием. Среднее значение в обеих группах составило 5,83±2,63 года.
Таблица 1. Клинико-анамнестические характеристики исследуемых групп Table 1. Clinical and history data of the study groups | ||
Критерии | Группа 1 (n=24) | Группа 2 (n=21) |
Возраст, лет | 33,69±4,57 | 35,55±4,18 |
ИМТ, кг/м2 | 24,92±4,73 | 23±4,9 |
АМГ, нг/мл | ||
Длительность менструального цикла, дни | 29,8±3,39 | 28,7±3 |
Длительность бесплодия, лет | 6,27±3,2* | 5,46±2,1* |
Длительность течения ММ, лет | 7,03±3,14 | 5,74±2,71 |
Типы ММ по FIGO | 5 [4; 5] | 5 [4; 6] |
*p<0,05 – различия статистически значимы. | ||
При оценке клинической картины у 33,3% пациенток наблюдались жалобы на обильные менструальные кровотечения, у 20,8% – на хроническую тазовую боль, у 25% – на железодефицитную анемию, у 20,9% женщин основной жалобой явилось отсутствие наступления беременности (рис. 2).
Рис. 2. Распределение симптомов ММ среди исследуемых групп пациенток.
Fig. 2. Distribution of uterine fibroid (UF) symptoms in the study groups of patients.
Дополнительно всем женщинам проведена аспирационная биопсия эндометрия и ИГХ-исследование на маркеры рецептивности и воспаления эндометрия в предполагаемую среднюю секреторную фазу менструального цикла. В результате до начала терапии отмечена выраженная экспресия PR в строме (423±228) по шкале H-Score, умеренная экспрессия PR в железах эндометрия (225,13±28,9), напротив, экспрессия ER как в строме, так и в железах была пониженной и равнялась 108,13±16,2 и 110,8±40,5 соответственно. Одним из определяющих факторов репродуктивного потенциала является соотношение стромального количества PR к ER. У пациенток в первой группе этот показатель составил 3,34 [1, 42; 5, 83], а во второй – 3,78 [3, 11; 5, 05]. При этом показатель LIF составил 5,2±2 (в нормальном эндометрии в секреторную фазу цикла его значение стремится к 8–12 баллам). Таким образом, при интерстициальной ММ обнаружена тенденция влияния на эндометрий за счет снижения количества пиноподий и нарушения рецепторного статуса. Стоит отметить, что повышение уровня маркера лимфоцитов CD56 определялось у 5 (20,8%) пациенток первой группы и у 6 пациенток (25%) второй, что говорит о наличии воспалительного и иммунного компонента в оценке эндометрия у пациенток с интерстициальной ММ. Кроме того, при гистологическом исследовании полученного материала у 48,9% пациенток обнаружено несоответствие эндометрия фазе менструального цикла и отсутствие нормальной секреторной трансформации.
После полного клинико-диагностического дообследования всем пациенткам проведена консервативная терапия в течение 3 мес мифепристоном в дозировке 50 мг/сут или трипторелина ацетатом 3,75 мг 1 раз в 28 дней с 1-го дня менструального цикла. Контроль ИГХ-исследования эндометрия проводился после наступления первой самостоятельной менструации, в среднем этот показатель колебался от 26 до 70 дней и составил по группам 37,7±12 и 41,2±7,47 соответственно.
При анализе показателей отмечено снижение экспрессии PR в строме в среднем на 35% (рис. 3), в железах эндометрия этот показатель снизился незначительно (на 3,23%). При этом экспрессия ER как в строме, так и в железах оставалась стабильной с незначительными колебаниями, учитывая сдвиги в менструальном цикле. Наиболее важным показателем эффективности проводимой терапии явилась нормализация соотношения PR/ER в строме в обеих группах, однако в первой это значение составило 2,21±0,47, а во второй – 3,01±0,73. При корреляционном анализе выявлены статистически значимые различия между группами, что говорит о более благоприятном профиле воздействия препарата мифепристона на данный параметр. Среднее количество LIF в обеих группах в баллах равнялось 8,29±2,5, что можно отнести к критериям нормальной функциональной активности (рис. 4). Во второй группе в 28% наблюдений этот показатель не достиг референсного значения. Стоит отметить, что была обнаружена тенденция к снижению иммунного показателя CD56 (до 12,5% среди всех женщин), а уровень СD138 остался неизменным, что не исключает наличия инфекционного фактора.
Рис. 3. Оценка влияния гормональной терапии на маркеры рецептивности эндометрия у пациенток с бесплодием и ММ.
Fig. 3. Evaluation of the hormone therapy effect on endometrial receptivity markers in patients with infertility and UF.
Рис. 4. Динамика изменения основных параметров в зависимости от проводимой терапии у пациенток с ММ.
Fig. 4. Change over time in the main parameters depending on the therapy in patients with UF.
Дополнительным методом явилось УЗИ с использованием эластографии (табл. 2).
Таблица 2. Динамика изменения размеров и эластографичеких параметров у пациенток с ММ и бесплодием после медикаментозного лечения Table 2. Change over time in size and elastographic parameters in patients with UF and infertility after drug treatment | ||||
Характеристики | Группа 1 (до) | Группа 1 (после 3 мес) | Группа 2 (до) | Группа 2 (после 3 мес) |
Объем матки, см3 | 188,16±21,4 | 151,12±18,94* | 199,79±39,71 | 137±19,73* |
Диаметр максимального узла, мм | 50,15±8,38 | 35,15±8,01** | 51,81±10,9 | 24,73±9,5** |
Strain Ratio индекс | 3,78±0,76 | 2,4±1,27** | 4±1,55 | 2,1±2,02* |
Тип по Ueno | 4,5 | 3,4 | 4,5 | 2–4 |
Примечание. *p<0,01, **p<0,05 – различия статистически значимы по сравнению с исходным уровнем – до лечения. | ||||
При анализе динамики изменения объема матки и диаметра максимального узла выявлено, что при применении аГнРГ эти параметры уменьшаются в среднем на 31,2 и 52,3% соответственно, что приводит к более быстрому купированию симптомов ММ, уменьшению объема кровопотери и восстановлению уровня гемоглобина. В первой группе пациенток с применением мифепристона эти значения были меньше и составили 19,7 и 30% (рис. 5). Однако при статистическом анализе купирования симптомов достоверных различий между группами не выявлено, что позволяет сделать вывод об эффективности проведения гормональной терапии ММ.
Рис. 5. Динамика изменений объема матки и диаметров узлов в зависимости от проводимой терапии у пациенток с ММ.
Fig. 5. Change over time in uterine volume and diameter of the nodes depending on therapy in patients with UF.
При оценке сонографических показателей и применения метода эластографии отмечено, что в первой группе чаще наблюдали более «жесткие» узлы с плотной капсулой с преобладающими типами 3 и 4 по Ueno, а во второй группе отмечали большую гетерогенность с тенденцией к мягко-эластической структуре с преобладающими типами 2 и 3 по Ueno.
Стоит отметить, что оперативное лечение в объеме миомэктомии потребовалось 1 (4,2%) пациентке в связи с быстрым центрипитальным ростом одного из узлов в группе с применением мифепристона. Через 6 мес после окончания терапии еще 5 (23,8%) пациенткам из второй группы потребовалось оперативное лечение лапароскопическим доступом в связи с быстрым регрессом узлов.
Обсуждение
В ходе нашего исследования подтвердились имеющиеся данные по поводу нарушений рецепторного статуса и гистологической структуры эндометрия у пациенток с интрамуральной ММ, приводящих к инфертильности [8–10, 14, 15, 18].
По результатам ИГХ-анализа рецептивности эндометрия у 75% исследуемых с интерстициальной ММ (до 5 см) наблюдались сдвиги в рецепторном статусе эндометрия. По морфофункциональным особенностям при длительном течении ММ или тенденции опухоли к росту отмечено несоответствие гистологической структуры эндометрия фазе менструального цикла, что также может служить причиной снижения фертильности.
Мы проанализировали не только возможности применения гормональной терапии ММ для купирования симптомов и улучшения качества жизни таких пациенток, но и ее влияние на фертильность. В результате проведенного лечения проявленность симптомов ММ снизилась в обеих группах, более выраженный эффект наблюдался в группе пациенток, в состав терапии которых был включен аГнРГ, однако более стойкий эффект отмечен в группе пациенток, в состав терапии которых был включен мифепристон.
В результате статистического анализа выявлено, что при применении препаратов в обеих группах снижается уровень PR/ER-соотношения до нормальных значений от 2 до 3 [20] (в группе применения мифепристона это значение составило 2,21±0,47, в группе аГнРГ – 3,01±0,73) и восстанавливается активность LIF до средних значений, характерных для средней секреторной фазы цикла (в первой группе – 9,4±3,51 и во второй – 6,95±1,76). В совокупности эти данные свидетельствуют о положительном влиянии на восстановление эндометриальной функции.
Отметим, что после проведенной терапии хирургическое вмешательство для устранения миоматозных узлов потребовалось 6 (13,3%) пациенткам из обеих групп, что говорит об эффективности применения медикаментозного лечения ММ.
Заключение
При интерстициальной ММ обнаружена тенденция к влиянию на эндометрий за счет снижения количества LIF и пиноподий, а также нарушения рецепторного статуса (преимущественно PR/ER-соотношения в строме), что может служить причиной неудач в имплантации эмбриона и развитии инфертильности у данной когорты пациенток.
Проведенное проспективное исследование доказывает, что применение селективных модуляторов рецепторов PR патогенетически обосновано в лечении ММ [22, 23], непосредственно влияет на экспрессию PR-рецепторов за счет преимущественно ингибирующего действия, оказывает благоприятное действие непосредственно на структуру узла, что подтверждается данными УЗИ в сочетании с методом эластографии. При этом не отмечено клинически значимых неблагоприятных явлений, что доказывает и ряд других исследований в сравнении с применением препаратов аГнРГ [24].
Таким образом, для ведения пациенток с ММ репродуктивного возраста необходимо применять комплексный и персонализированный подход с целью улучшения фертильности, репродуктивных исходов и снижения количества оперативных вмешательств по данной нозологии.
Раскрытие интересов. Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.
Disclosure of interest. The authors declare that they have no competing interests.
Вклад авторов. Авторы декларируют соответствие своего авторства международным критериям ICMJE. Все авторы в равной степени участвовали в подготовке публикации: разработка концепции статьи, получение и анализ фактических данных, написание и редактирование текста статьи, проверка и утверждение текста статьи.
Authors’ contribution. The authors declare the compliance of their authorship according to the international ICMJE criteria. All authors made a substantial contribution to the conception of the work, acquisition, analysis, interpretation of data for the work, drafting and revising the work, final approval of the version to be published and agree to be accountable for all aspects of the work.
Источник финансирования. Авторы декларируют отсутствие внешнего финансирования для проведения исследования и публикации статьи.
Funding source. The authors declare that there is no external funding for the exploration and analysis work.
Соответствие принципам этики. Протокол исследования одобрен локальным этическим комитетом ФГАОУ ВО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова» (протокол №224 от 19.12.2022). Одобрение и процедуру проведения протокола получали по принципам Хельсинкской декларации.
Compliance with the principles of ethics. The study protocol was approved by the local ethics committee of Pirogov Russian National Research Medical University (protocol №224 dated 19.12.2022). Approval and protocol procedure was obtained according to the principles of the Declaration of Helsinki.
Информированное согласие на публикацию. Пациенты подписали форму добровольного информированного согласия на публикацию медицинской информации.
Consent for publication. Written consent was obtained from the patients for publication of relevant medical information and all of accompanying images within the manuscript.
1 CD56 – молекула адгезии клеточной поверхности, участвует в NK-клеточной цитотоксичности; CD138 – мембранный белок плазматических клеток; LIF – лейкемия-ингибирующий фактор, провоспалительный цитокин.
About the authors
Yulia E. Dobrokhotova
Pirogov Russian National Research Medical University
Email: doclapina@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-7830-2290
D. Sci. (Med.), Prof.
Russian Federation, MoscowIrina A. Lapina
Pirogov Russian National Research Medical University
Author for correspondence.
Email: doclapina@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-2875-6307
D. Sci. (Med.)
Russian Federation, MoscowValeriia M. Gomzikova
Pirogov Russian National Research Medical University
Email: doclapina@mail.ru
ORCID iD: 0000-0001-6297-8811
Graduate Student
Russian Federation, MoscowYury А. Sorokin
Medsi group JSC
Email: doclapina@mail.ru
ORCID iD: 0000-0001-9305-323X
Head of the Center for Reproductive Health
Russian Federation, MoscowEleonora T. Khatagova
Pirogov Russian National Research Medical University
Email: doclapina@mail.ru
ORCID iD: 0009-0009-2512-0619
Resident
Russian Federation, MoscowAyshan R. Allakhverdieva
Pirogov Russian National Research Medical University
Email: doclapina@mail.ru
ORCID iD: 0000-0001-8693-5867
Graduate Student
Russian Federation, MoscowMariya A. Olkhovskaya
Pirogov Russian National Research Medical University
Email: doclapina@mail.ru
ORCID iD: 0009-0005-0754-710X
Resident
Russian Federation, MoscowReferences
- Слюсарева О.А., Маркаров А.Э., Апресян С.В., и др. Мультидисциплинарный подход в лечении миомы матки. Медицинский Совет. 2023;(5):58-71 [Sliusareva OA, Markarov AE, Apresian SV, et al. Multidisciplinary approach in the treatment of uterine fibroids. Medical Council. 2023;(5):58-71 (in Russian)]. doi: 10.21518/ms2023-090
- Клинические рекомендации. Миома матки. М.: Министерство здравоохранения Российской Федерации, 2020. Режим доступа: https://medi.ru/klinicheskie-rekomendatsii/mioma-matki_14078/ Ссылка активна на 06.02.2024 [Clinical guidelines. Myoma of uterus. Moscow: Ministry of Health of the Russian Federation, 2020. Available at: https://medi.ru/klinicheskie-rekomendatsii/mioma-matki_14078/ Accessed: 06.02.2024 (in Russian)].
- Florence AM, Fatehi M. Leiomyoma. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2024.
- Sparic R, Mirkovic L, Malvasi A, et al. Epidemiology of Uterine Myomas. Int J Fertil Steril. 2016;9(4):424-35. doi: 10.22074/ijfs.2015.4599
- Хашукоева А.З., Агаева М.И., Дугиева М.З., и др. Повышение шансов наступления беременности после миомэктомии в программах ВРТ. Медицинский Совет. 2017;(13):138-42 [Khashukoeva AZ, Agaeva MI, Dugieva MZ, et al. Increased chances of pregnancy after myomectomy in ART programs. Medical Council. 2017;(13):138-42 (in Russian)]. doi: 10.21518/2079-701X-2017-13-138-142
- Baird DD, Harmon QE, Upson K, et al. A Prospective, Ultrasound-Based Study to Evaluate Risk Factors for Uterine Fibroid Incidence and Growth: Methods and Results of Recruitment. J Womens Health (Larchmt). 2015;24(11):907-15. DOI:10.1089/ jwh.2015.5277
- Taylor HS. Fibroids: when should they be removed to improve in vitro fertilization success? Fertil Steril. 2018;109(5):784-5. doi: 10.1016/j.fertnstert.2018.03.003
- Zepiridis LI, Grimbizis GF, Tarlatzis BC. Infertility and uterine fibroids. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol. 2016;34:66-73. doi: 10.1016/j.bpobgyn.2015.12.001
- Klatsky PC, Tran ND, Caughey AB, Fujimoto VY. Fibroids and reproductive outcomes: a systematic literature review from conception to delivery. J Obstet Gynecol. 2008;198(4):357-66. doi: 10.1016/j.ajog.2007.12.039
- Кузнецова И.В., Евсюкова Л.В. Миома матки и фертильность. Гинекология. 2016;18(3):23-9 [Kuznetsova IV, Evsiukova LV. Uterine fibroids and fertility. Gynecology. 2016;18(3):23-9 (in Russian)]. doi: 10.26442/2079-5696_18.3.23-29
- Подзолкова Н.М., Колода Ю.А., Коренная В.В., и др. Эффективность вспомогательных репродуктивных технологий при миоме матки (обзор литературы). Гинекология. 2015;17(2):60-4 [Podzolkova NM, Koloda YA, Korennaia VV, et al. The efficacy of assisted reproductive technologies in patients with uterine fibroids (review). Gynecology. 2015;17(2):60-4 (in Russian)]. doi: 10.26442/2079-5831_17.2.60-64
- Indman PD. Hysteroscopic treatment of submucous fibroids. Clin Obstet Gynecol. 2006;49:811-20. doi: 10.1097/01.grf.0000211960.53498.29.
- Oliveira FG, Abdelmassih VG, Diamond MP, et al. Impact of subserosal and intramural uterine fibroids that do not distort the endometrial cavity on the outcome of in vitro fertilization – intracytoplasmic sperm injection. Fertil Steril. 2004;81(3):582-7.
- Козаченко И.Ф., Файзуллина Н.М., Cмольникова В.Ю., и др. Аденомиоз, миома матки и внутриматочная перегородка: результаты программы ЭКО в зависимости от рецептивности эндометрия. Акушерство и гинекология: новости, мнения, обучение. 2021;9(1):6-14 [Kozachenko IF, Faizullina NM, Cmol'nikova VY, et al. Adenomyosis, uterine fibroids and intrauterine septum: IVF program results depending on endometrial receptivity. Obstetrics and Gynecology: News, Opinions, Training. 2021;9(1):6-14 (in Russian)]. doi: 10.33029/2303-9698-2021-9-1-6-14
- Pritts EA, Parker WH, Olive DL. Fibroids and infertility: an updated systematic review of the evidence. Fertil Steril. 2009;91(4):1215-23.
- Sunkara SK, Khairy M, El-Toukhy T, et al. The effect of intramural fibroids without uterine cavity involvement on the outcome of IVF treatment: a systematic review and meta-analysis. Hum Reprod. 2010;25(2):418-29. doi: 10.1093/humrep/dep396
- Pier B, Crellin C, Katre A, et al. Large, Non-Cavity Distorting Intramural Leiomyomas Decrease Leukemia Inhibitory Factor in the Secretory Phase Endometrium. Reprod Sci. 2020;27(2):569-74. doi: 10.1007/s43032-019-00056-x
- Navarro A, Bariani MV, Yang, Q, et al. Understanding the Impact of Uterine Fibroids on Human Endometrium Function. Front Cell Dev Biol. 2021;9:633180. doi: 10.3389/fcell.2021.633180
- Unlu C, Celik O, Celik N, et al. Expression of Endometrial Receptivity Genes Increase After Myomectomy of Intramural Leiomyomas not Distorting the Endometrial Cavity. Reprod Sci. 2016;23(1):31-41. doi: 10.1177/1933719115612929
- Коган Е.А., Аскольская С.И., Бурыкина П.Н., и др. Рецептивность эндометрия у женщин с миомой матки. Акушерство и гинекология. 2012;(8-2):42-8 [Kogan EA, Askolskaya SI, Burykina PN, Faizullina NM. Endometrial receptivity in patients with uterine myoma. Obstetrics and Gynecology. 2012;(8-2):42-8 (in Russian)].
- Donnez J, Dolmans MM. Hormone therapy for intramural myoma-related infertility from ulipristal acetate to GnRH antagonist: a review. Reprod Biomed Online. 2020;41(3):431-42. doi: 10.1016/j.rbmo.2020.05.017
- Tristan M, Orozco LJ, Steed A, et al. Mifepristone for uterine fibroids. Cochrane Database Syst Rev. 2012;2012(8):CD007687. doi: 10.1002/14651858.CD007687.pub2
- Shi S, Ye Q, Yu C, et al. The efficacy and safety of Xuefu Zhuyu Decoction combined with Mifepristone in the treatment of uterine leiomyoma: A systematic review and meta-analysis. J Ethnopharmacol. 2021;281:114551. doi: 10.1016/j.jep.2021.114551
- Оразов М.Р., Радзинский В.Е., Леффад Л.М. Возможности медикаментозной терапии лейомиомы матки в репродуктивном возрасте. Гинекология. 2021;23(6):586-91 [Orazov MR, Radzinsky VE, Leffad LM. Possibilities of drug therapy for uterine leiomyoma in reproductive age. Gynecology. 2021;23(6):586-91 (in Russian)]. doi: 10.26442/20795696.2021.6.201293
Supplementary files